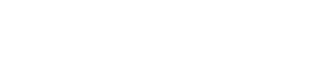Трансформации социального пространства как предчувствие нового мира
Какое место займет культура в постпандемическом мире, останется ли она вне цифрового пространства и как изменит образ «социального героя»#Культура#Мировой кризис#Общество
На граффити Бэнкси «Девушка с проколотым ухом» в Бристоле появилась защитная маска во время пандемии коронавируса COVID-1
Ben Birchall/PA
Мы уже смирились с тем, что новый мир будет гораздо более жесткой системой, где конкуренция не ограничится «институтами» и «нормами», даже если пиратские действия, которые иные крупные игроки на мировой арене позволяли себе в отношении медицинского оборудования и материалов на пике пандемии, останутся лишь случайными эпизодами. Но резко возросший градус глобального недоверия и глобальной неуверенности, понимание, что тщательно выстраиваемые и во внутренней, и во внешней политике ритуалы и традиции могут быть обнулены в любой момент, делает принципиально невозможным возврат к прошлому миру. Конечно, много сказано и еще будет сказано о геоэкономической и, как ее следствие, геополитической конкуренции крупнейших государств мира. Но проблема в том, что пандемический кризис — не самое мощное глобальное потрясение из всех возможных — заставил мир взглянуть внутрь себя, а не только на абстрактные «ресурсы», «пространства», «логистику». Пандемический кризис заставил понять, что мир состоит не только из макроэкономических индикаторов и инструментов национальной мощи государства. Выяснилось, что глобальный мир — это еще и мир людей. И даже если мы, возможно, выйдем из кризиса с относительно небольшими человеческими потерями, мы точно потеряем универсальную модель социального развития и социальной реализации, последние тридцать лет дарившую нам уверенность в завтрашнем дне.
Абрис новой эпохи
Вероятно, социальные трансформации будут одним из наиболее болезненных аспектов формирования постглобального мира, потому что изменения социального пространства носят всеобщий характер и пока ни одной стране мира не удалось выработать модель достаточно гибкую и привлекательную, чтобы заменить модель социального развития, предлагавшуюся глобализацией.
Гибкость модели «количественного социального выравнивания» была продуктом ее диалектичности: модель догоняющего потребления устанавливала почти универсальные количественные критерии (то есть была «считабельной»); с другой стороны, она базировалась на выравнивании возможностей доступа к тем или иным благам или сервисам, что определялось не столько социальным, сколько технологическим развитием.
Пандемия коронавируса уже сейчас, при всей среднесрочной неясности исхода, кажется неким рубежным событием, сломавшим не только экономику многих стран, но и комфортную для большинства модель социокультурного развития. В чем есть определенная логика: сфера социального развития, не исключая и культуру, была слишком тесно, иногда неразрывно (как, например, в Италии или во Франции) вписана в экономические процессы, так что любое изменение экономической конъюнктуры приводит к невозможности жить «по-старому» и социально. Так же ходить в рестораны и музеи, потреблять визуальные образы профессионального спорта и покупать рекламируемые кинозвездами и спортсменами товары.
Догоняющая социальная модернизация на базе мимикрирующего под премиальность потребления действительно была одной из «скреп» глобализации, почти идеологией. Но вряд ли можно рассчитывать на ее воспроизведение в неизменном виде после пандемии.
А может быть, и на просто воспроизведение.
О социальных аспектах глобализации написано много, но теперь эти исследования в основном воспринимаются скорее как свидетельства близорукости и самоуверенности человека и человечества. Глобализация изначально была проектом и как проект во многом была безупречна. Но, будучи проектом и отрицая процессность, она не могла справиться со среднесрочными отклонениями от заданных темпов и особенно форматов.
При всем многообразии системообразующих тенденций социальной глобализации особо стоит выделить пять тенденций, стоящих в центре переживаемых нами трансформаций:
От информационного общества как пользовательского, сервисного феномена к средству социальной идентификации. В социально-экономическом пространстве поздней глобализации информационное общество стало безальтернативным инструментом вовлечения в социально-экономические процессы и средством социальной самоидентификации. Посткоронавирусный мир закрепит, можно не сомневаться, статус информационных инструментов как одновременно глобального уравнителя и глобального сегрегатора. И мы можем получить нечто большее, чем социально опасный вариант цифрового капитализма. Особенно если в какой-то момент решим, что ему нет альтернативы.
От доминирования мегаполисов как экономических платформ к их доминированию как формата среды. Даже самая комфортная условная «провинция», способная конкурировать с мегаполисами в качестве жизни, не давала ничего сравнимого с уровнем социального комфорта в мегаполисе. Посткоронавирусный мир если не убьет социальную среду мегаполисов, то заставит как минимум пересмотреть опасное даже и без коронавируса суждение, что мегаполисы — единственный вариант обеспечить человечеству приемлемый социальный стандарт. А культура, отражающая процессы городской атомизации и деградации социальных институтов, — единственный перспективный вид культуры, доступный для «обычного» человека.
От потребления товаров к потреблению ощущений. Для мира «зрелой» глобализации перед пандемией было характерно два взаимоисключающих явления: ориентация на одноразовые вещи (начиная с одежды и заканчивая резким сокращением срока использования различного потребительского оборудования) и шеринг, когда исчезает не только желание, но и право на личную собственность. Это фиксировало распад социально-экономического мейнстрима на различные векторы, которые, если бы не пандемия, разошлись бы очень далеко. Но вот в потреблении ощущений идеологи глобализма делали все, чтобы сохранить мейнстрим, охватывающий большую часть неэлитных слоев. Что понятно: именно визуальные образы становились главным инструментом идентификации «свой — чужой». И, думается, пандемия только обострит и усилит это обстоятельство.
От флюидной собственности — к флюидному социальному статусу. Превращение географической мобильности в социальную неустойчивость. Мы наблюдали довольно быстрый отказ от того, что в индустриальном мире называли «общественный договор», то есть, от системы неких иногда неформализованных обязательств различных групп общества друг перед другом. В некоей, вероятно, не столь уж отдаленной перспективе был бы поставлен вопрос, что такое гражданство и не лучше ли перейти в формировании систем власти к некоей «меритократии», за которой отчетливо виднелась хорошо знакомая аристократия. И, соответственно, два народа и две (или даже больше) культуры, хорошо знакомые россиянам из трудов классиков марксизма-ленинизма. И надо быть более чем наивным, чтобы не предположить, что пандемия ускорит эти процессы, сняв необходимость соблюдения традиций и ритуалов эпохи, именовавшейся «институциональной демократией».
От культурного плюрализма к диктату социальной толерантности. Вероятно, ни одна другая сфера глобализации не вызывала такого неприятия, как «толерантность», становившаяся к 2020-м годам неким прообразом вполне тоталитарной идеологии. Но важно и другое: модели социального поведения и культура как их отражение стали первой сферой, где глобализационный социальный мейнстрим начал проявляться уже в качестве некоей протоидеологии. Это продемонстрировало статус культуры как сферы, где последствия глобальных трансформаций проявляются в социально понятных форматах раньше всего. Пандемия коронавируса, вероятно «обнулив» достижения толерантности, оставит на их месте вакуум, в особенности в странах, наиболее продвинувшихся в этом направлении и разрушивших ради победы ценностей радикальной толерантности не только традиционные социальные институты, отражавшие этнические или исторические идентичности, но и культуру. И чем теперь будет заполнен этот вакуум, остается только догадываться. Но уж точно не новым изданием толерантности и трансгуманизма.
Посткультура: неафишируемая скрепа глобализации: место в новом мире
Культура всегда была одной из главных парий глобализации, что отчасти было верно. Зажатая между шоу-бизнесом и элитарностью, она была обречена, сохраняя глобальность доступа, становиться все более «нишевой», сегментированной по социальным (а фактически потребительским) нишам. Главной проблемой была глубокая, фактически неразрываемая без значительных и трагических последствий вписанность культуры в экономический контекст, подразумевающий как минимум три важнейших обстоятельства.
1. Космополитичность, причем англоязычная, хотя ее и было бы неправильно отождествлять только с американоцентричностью. Но все же забавно, что большинство исполнителей на пресловутом конкурсе «Евровидение», пели на английском языке, который является естественным — даже не государственным, а естественным — только для одной страны Европы.
2. Усредненность к нижнему сегменту, поскольку его коммерческое значение росло, что, вероятно, стоит соотнести не только с отказом от «классического» образования, но и с утратой западной родовой аристократией статуса «главного заказчика» в сфере культуры.
3. Доминирование принципа «максимизации охвата», в чем как в капле воды отразилось искаженная (а в действительности извращенная) ленинская фраза «искусство должно быть понятно народу», вместо «понято народом». А это означало, что доминирующим фактором при создании культурного произведения становился формат, доступный (как в технологическом, так и в духовном смысле) максимально широкому числу «потребителей», хотя, вероятно, на завершающих стадиях развития прежней версии глобализации кавычки были уже излишни.
В сфере глобального социокультурного развития возникала сложная диалектика, которая не могла не завершиться кризисом. С одной стороны, высочайшая степень встроенности культурного процесса в социально-экономическую систему подразумевала упрощение культурного процесса в первом приближении и сегрегацию — во втором. Разделение на «шоу-бизнес» и «подлинную культуру» стало не столько социальным, сколько имущественным классификатором. С другой стороны, сохранение некоего актора или отдельного артефакта в культурном мейнстриме совершенно не предполагало социальной вовлеченности, социальной значимости.
Оставался, правда, вопрос, насколько то, что предлагалось потреблять в глобализированном мире, оставалось бы культурой даже не в классическом, но в «индустриальном» понимании этого термина: артефактами, существующими на грани утилитарности, апелляции к некоей традиции (хотя бы и в форме ее отрицания) и инвестиционности, то есть наличия у артефакта некоей флюидной стоимости, непредсказуемой и очень контекстной, зависящий от времени и обстоятельств этого времени? Как, например, мы наблюдали дикие скачки цен на картины Ван Гога и многомиллионные продажи картин художников-абстракционистов, главная ценность которых была в наличии подписи. Конечно, мы имели дело с некими артефактами, относимыми глобализационным мейнстримом к сфере культуры, постепенно расширяя спектр того, что в принципе могло культурой считаться. Но оставляя в стороне вопрос, кто и как определял этот культурный мейнстрим, все более напоминавший торговлю нефтяными фьючерсами, отметим, что социальные тенденции периода поздней глобализации создавали практически реализуемую перспективу формирования непересекающихся культурных архетипов.
Конечно, ситуация развивалась по более сложной траектории, нежели противопоставление «виртуальная», вернее виртуализированная культура (и в целом социокультурная среда) для бедных и большей части среднего класса — и доступ к традиционной, если хотите очной культуре для верхней (некредитной) части среднего класса и сужающейся прослойке богатых и сверхбогатых людей. Эта схема была относительно стройной и постепенно позволяла превратить классическую культуру в удел элитариев, оставляя другим слоям социально вовлеченного общества некое меню, где главными позициями были виртуализированные суррогаты реальных культурных артефактов.
Но появились нюансы.
Социокультурная многовекторность как реальность виртуального мира
Вместо вполне понятной и в определенном смысле логичной, хотя и почти откровенно социал-дарвинистской схемы появилась гораздо более сложная и опасная для мира глобализации конструкция социальных моделей.
С одной стороны, развивалась и укреплялась виртуальная культура «для бедных», построенная вокруг максимального упрощения доступа к цифровым интегрированным коммуникациям, где пресловутая «стоимость доступа» постоянно падала и сокращались политические — проще говоря, цензурные — ограничения.
С другой стороны, социокультурная среда для элиты если и сложилась, то не проявила себя до начала пандемии как полноценная социальная парадигма. Трудно сейчас дать точный диагноз, почему так произошло, но, вероятнее, всего, главным идентификатором принадлежности к «элите» была приверженность именно глобальным «ценностям», вернее набору регламентирующих постулатов-символов («гендерное равенство», «толерантность», «репрезентативная демократия» и проч.), не предполагавших никакого культурного наполнения, только поведенческое.
Но вопреки авторам «двоичной» модели развития социокультурных отношений появился и «третий путь». И он, как представляется, был самым опасным. В процессе бурных событий «арабской весны» и последующей борьбы с террористическими формированиями мы наблюдали, и не только в регионах, охваченных вооруженным противостоянием, поначалу спорадическое, а потом системное — в исламистских протогосударствах Среднего Востока — возникновение архаизированных социокультурных моделей (в том числе основанных на модели гибридной трофейно-исламской экономики), реализованных не только в социальном пространстве (как это происходит с сектами), но и в географическом. Опыт исламистских протогосударств доказывал принципиальную возможность обратного развития, поскольку социальная модель архаизации (не только частичная, как в хомейнистском Иране сразу после исламской революции 1979 года, а полная) была реализована в географическом пространстве, относившимся к государствам (Сирия, Ирак), находившимся на индустриальной фазе развития и прошедшим (в отличие, например, от Саудовской Аравии и ряда государств Персидского залива) несколько фаз социальной модернизации.
Попытки формирования исламистских протогосударств доказали возможность существования архаизированных общественных систем в условиях глобализированного информационного общества и активного использования ими систем коммуникации в своих интересах. Более того, пример архаизации как модель организации социокультурного пространства доказала свою относительную привлекательность для жителей стран с развитыми социокультурными системами, построенными на принципах радикального западного либерализма, и возможность построения анклавных, но реализованных в географическом пространстве систем подобного рода (Лондон, «большой Париж», Брюссель и проч.).
Но главное, эти архаизированные системы имели собственную культурную надстройку, включая эстетику, вполне успешно и отчасти даже привлекательно (насколько привлекательными могут быть антисистемные культы) развивавшуюся, хотя и в специфических форматах. Мир, нацеленный на дальнейшую модернизацию, столкнулся с конкуренцией архаичности по всему пространству социокультурных отношений. И даже там, где считалось, что это направление вторично. Например, в системах социальной интеграции или упомянутой выше эстетике, заменявшейся упрощенными системами визуальных образов, в которых все большую роль играло насилие.
Столкновение цивилизаций впервые начало приобретать социокультурный аспект, к чему глобализированный мир оказался явно не готов.
Но тут пришел коронавирус.
Культура постглобального мира: между архаикой и онлайном
Было бы крайне наивным полагать, что пандемии коронавируса удастся остановить динамику трансформации социокультурной сферы, которую она приобрела в период поздней глобализации. Слишком много денег и времени было вложено в то, чтобы эти векторы сформировать, слишком серьезные коммерческие перспективы открывала социокультурная сегрегация перед «глобальными инвесторами», несмотря на издержки, связанные с возникновением пространств откровенной и довольно кровавой архаики. На эти пространства, бывшие когда-то частью индустриального мира, можно было бы распространить понятие «четвертый мир», очень удачно введенное в ранние нулевые в экономический оборот. Но было бы еще более наивным полагать, что пандемия коронавируса не окажет серьезного корректирующего воздействия на блистательные замыслы глобалистских концептуалистов. Потому что в системе глобализации человек был прежде всего потребителем, а в большей своей части — только потребителем. И логика системы как раз и заключается в том, чтобы ограничить убыль этих потребителей, тем более в результате столь странного и пугающего процесса, как пандемия.
Особенность культуры как сферы социального развития заключалась в том, что культура как социальное действие, состоящее из ритуалов, образцов и артефактов, в мире глобализации имела вполне определенное будущее, укладывавшееся в двоичную систему «культуры для бедных» и культуры элитарной с технологическим расслоением по типам каналов, задействованных в трансляции культурных артефактов. Но в этом своем «изводе» понимание культуры все меньше и меньше было связано с эстетикой и все больше — с вполне утилитарными факторами: возможностью доступа к определенным технологиям (в первую очередь к каналам коммуникаций, но не только) и наличием ресурсов (финансовых, но не только), чтобы приобретать в буквальном смысле слова тот или иной формат потребления культуры. Вы могли купить тур в Париж и посетить Лувр, а могли получить виртуальный тур по Лувру за гораздо меньше деньги и в существенно более комфортном с потребительской точки зрения формате. Или получить доступ к вполне качественно визуализированному «домашнему» по форме представления концерту лучших виртуозов скрипки и альта, не выходя из своей бирюлевской панельки или «проджекта» в Бронксе. И это уже не просто расслоение общества на бедных и богатых, это фиксация непреодолимой границы в социальном расслоении, формирование двух разных и почти не пересекающихся моделей социального поведения.
Вполне очевидными становятся несколько параллельных сценариев, но в каждом из них культура и ассоциирование той или иной социальной и национальной группой себя с тем или иным типом поведения в отношении культурных артефактов становится важнейшим компонентом конкуренции моделей социальной организации постпандемических обществ.
Но было два вопроса, на которые поздняя постглобальная культура ответа не давала, и эти ответы придется давать сейчас.
Первый вопрос был вполне очевиден: есть ли в глобальном мире место для контркультуры, не обязательно в ее классическом «бунтарском» понимании (ярким представителем этого типа культуры был неистовый Эдуард Лимонов в начале своей деятельности), но и во вполне респектабельном, почти системном (помимо очевидного Бэнкси можно привести и еще несколько примеров, например постаревших рокеров и панков). И это вопрос не столько эстетики, сколько самоидентификации. Вопрос, кем был Эдуард Лимонов, кажется странным, но только на первый взгляд. Лимонов олицетворял, а в лучшие годы и воплощал это балансирование на грани окон и щелей Овертона и самореализацию на «стыке» различных форматов. Он был всем и по сути, и по форме, а в зрелые годы он был всем одновременно, растворившись в медиапространстве и во многом использовав его технологии против тех, кто это медиапространство создал. Но был ли зрелый Эдуард Лимонов представителем контркультуры? Едва ли… Получается, что единственной моделью контркультурности осталась архаизация, зачастую в антисистемной трактовке. Да еще и сопровождающаяся не просто упрощением культурного пространства, но и прямым разрушением культурного наследия, как это происходило в Афганистане, Сирии, Индии. То есть сосуществование «культуры мейнстрима» и контркультуры, как это было в период модерна и постмодерна, стало теперь — но не после пандемии, а несколько раньше — принципиально невозможным? И борьба за культурный мейнстрим есть одновременно борьба за сохранение того, что называется «цивилизованная модель социального развития»?
Второй вопрос кажется незначимым, как бы вторичным, но в действительности он центральный: может ли постпандемическая культура существовать вне каналов коммуникации? В мире поздней глобализации феномен культуры, если его понимать как социальную реальность, был неотделим от коммуникативных процессов и с синхронической, и с диахронической позиции. Но в постпандемическом мире встает вопрос, существует ли в принципе культура как феномен вне цифрового коммуникационного пространства. И насколько цифровой «слепок» может заменить оригинал с эмоциональной точки зрения? И не обнаружим ли мы через некоторое время, что живем в мире суррогатов, попадая в ситуацию из раннего постсоветского анекдота, когда мошенник спрашивает, какую печать ставить на справку: настоящую или фальшивую. А на вопрос, в чем разница, отвечает: «Настоящая дороже, фальшивая — красивее».
Что останется в глобальной культуре после пандемического кризиса? И останется ли она в качестве глобального феномена, объединяющего социум, даже разделенный по классовому или религиозному принципу? Думается, что останется почти все, что было до пандемии, но с учетом особенностей социального пространства ключевую роль будут играть визуальные образы, способность их формировать и угадывать ими не столько реальное будущее, сколько проекции «великого прошлого» в будущее. Здесь возникает колоссальный простор и для творчества, и для манипуляций, способные подменить творчество, и для конкуренции концепций будущего. Но ведь новое понимание культуры есть ключ к новому пониманию социальных идентификаций и самоидентификаций, как на уровне отдельного человека, так и на уровне социальных групп.
Не получается ли так, что постмодернизм констатировал смерть автора, а постпандемизм ознаменовал рождение человека виртуального?
Поле битвы — визуализация
Увы, но банальная фраза вождя мирового пролетариата про важнейшее из искусств бумерангом вернулась к тем, кто ее много лет, если не десятилетий, отрицал и грозил опровергнуть Ильича всеобщей грамотностью и присоединением доминирующей части общества к «подлинной культуре». Почти всеобщая грамотность не помогла.
Пионерами визуализации стали кинотеатры, социальная функция которых оказалась едва ли не первой жертвой пандемии. Но мы с вами наблюдаем довольно удачное параллельное существование офлайн- и онлайн-кинотеатров. Здесь наименьшая потеря эффекта коммуникации. Концерты и театры — это контактный, в первую очередь энергетически, вид взаимодействия со зрителями. Если кинотеатры при переходе в онлайн не теряют эффекта коммуникации, то театры и концерты однозначно теряют, не говоря уже о музеях, лекциях, выставках. Кинематограф объективно станет не просто наиболее важным из искусств, но и главным источником визуальных образов для последующего копирования и тиражирования в социальном поведении. И здесь во всей остроте встает вопрос о лидерстве: кто будет законодателем визуальных трендов, тот получит серьезные бонусы в конкуренции социальных моделей.
Выскажем несколько предположений о том, что это могут быть за визуальные образы, тем более что это и не образы как таковые, а некие символы статуса в новом мире, отражающие тот или иной социальный запрос, доминирующий в государстве или коалиции, союзе государств.
Продолжит существовать, но не набирая уже прежние обороты, западная по своим истокам культура экшена, получающая, вероятно, новый импульс, поскольку все «мирские» средства борьбы с не самым сильным форс-мажором коронавируса оказались недостаточными. Надежда уже даже не на Человека-Паука — вполне земное порождение, случайная мутация (как и вирус, не правда ли?) двух земных существ, а на тех, кто стоит вне этого пространства, но может преодолевать время. А параллельно этому те же самые унылые «итальянско-реалистические» истории простых людей, которые, «похищая свои велосипеды», пытаются выживать в условиях, когда привычный мир комфортной жизни и самореализации куда-то рухнул и не собирается восстанавливаться.
Проблема в том, где, в каких странах и регионах будут реализовываться эти нестыкующиеся визуальные ряды. И тут, конечно, мы пока находимся в пространстве предположений.
Будет ли условный «Голливуд», американская система создания образов, источником нового социального оптимизма? Или же первенство в культурном прогрессорстве перейдет к Китаю, наконец решившемуся выйти за рамки продвижения в глобальный мир собственной истории? А США останется только рефлексировать на тему постапокалипсиса и «красной угрозы» в фильмах категории B?
Уже понятно, что великий европейский кинематограф будет страдать над утраченной «европейской мечтой», погружаясь в нуар, подобный тому, что царил в европейской культуре между двумя войнами, когда и появилось пресловутое «потерянное поколение». Но как глубоко будет это падение в социальный пессимизм? Или мы сравнительно быстро увидим нового европейского героя, стоящего над толпой (Ален Делон) и смеющегося над ней (Адриано Челентано), да еще и на ее же деньги (Жан-Поль Бельмондо)?
И конечно, главный вопрос остается пока без ответа: а где в этой сфере будет место России? Ведь без собственных уникальных визуальных образов не стоит даже и влезать в конкуренцию крупнейших игроков за наиболее привлекательную социальную модель развития. Нет визуализации — нет модели развития. А нет модели развития человека — нет и места в многополярном мире.
Постпандемическая социальность: вызов глобального развития или вызов глобальному развитию?
Постглобальность несет за собой виртуализацию культуры, и ценность материальных артефактов девальвируется. И если ранее, на этапе индустриального и раннего постиндустриального развития, в повседневном понимании культура и была этим набором материальных артефактов, то чем она станет в новом мире онлайн? Виртуализация культуры становится инструментом социальной сегрегации. Это черта, определяющая культурную преемственность от переноса большей части человечества в «смелый новый мир», где преемственность не просто излишня, а вредна, где главным социальным «героем» будет человек без собственности, корней, вечный кочевник информационного пространства, перемещающийся от «проекта» к «проекту», но не понимающий, что сама его жизнь есть проект со своим «началом» и «концом». Эта черта между человечеством с корнями и человечеством, у которого не должно было быть корней, и так была бы проведена. Другой вопрос, что ее проводили, быть может, быстро и жестко, но все же задумываясь о последствиях. Сейчас же мы имеем быстрое разрушение всего социального пространства, осуществляемое, кажется, при минимальном учете возможных последствий.
Является ли образование частью культуры? Безусловно да, но будет ли оно частью новой виртуальной культуры? Возможно, учитывая тот толчок, который коронавирус даст развитию дистанционных и виртуальных методов образования. Но будет ли это образованием с точки зрения формирования социальных институтов и устойчивых социальных связей, будь то отношения «ученик — учитель» или формирование устойчивых многолетних школ? Или мы идем к образовательной ситуативности, когда в основе всего будет некое «лего компетенций», подбираемых каждым человеком под свои текущие потребности? И как в таком случае быть с тем, что называется «научная преемственность»? Да и культурная тоже.
Есть ли место классическому образованию в постпандемическом мире или в ближайшем будущем мы станем свидетелями двух образований: дешевого — и дорогого, дистанционного, виртуального — и очного, классического, «длинного», если хотите. В таком случае задача государства в том, чтобы классическое образование и классическую культуру могли позволить себе не только нувориши. Но это переводит нас в плоскость вопросов долгосрочного социального прогнозирования, планирования и конструирования, на что нынешний правящий слой едва ли способен.
На деле это лишь часть вопросов, обнажающих проблему пределов возможной виртуализации культуры и сферы социальных отношений. А главный из них — согласится ли «бедное» человечество потреблять только виртуальные слепки культуры и социальных благ или же потребует от глобальной элиты своей доли в сократившейся постпандемической реальности.
Смысл указанного выше противопоставления раскрывается сравнительно просто: вопрос о социокультурном развитии постпандемического мира, включая трехвекторную конкуренцию виртуализации, архаизации и консерватизма, является элементом развития новой глобальной социальной модели, которая способна быть более гибкой, нежели предлагавшаяся нам в мире поздней глобализации и сможет быть воспринята большинством глобализированного ранее социума. Социальные «скрепы» глобализации смогут начать восстанавливаться раньше, нежели экономическая глобальность, сдерживаемая теперь многими неэкономическими факторами и обстоятельствами. И в том числе нарастающим социальным непониманием того, как единый мир, смотревший одни фильмы, евший одну или почти одну и ту же пиццу и стремившийся в одни и те же музеи, не говоря уже о жизни в одних и тех же социальных сетях, — как этот мир нарастающей унификации вдруг оказался настолько разобщенным. Или же социальная сфера для постглобального мира станет фактором разъединения, создав сперва различные механизмы социализации значимых групп, а затем, воссоздав на базе этнорелигиозных архетипов различные модели потребления, включая потребление ощущений, начнет все более разводить в сторону от глобализации крупнейшие и наиболее приспособленные к геоэкономической самодостаточности регионы.
Получается как в песне Виктора Цоя: «Все говорят, что мы вместе. Все говорят, но не многие знают, в каком». Возможно, именно понимание места культуры в постпандемическом обществе поможет указать, в каком мы сейчас месте.
Источник: